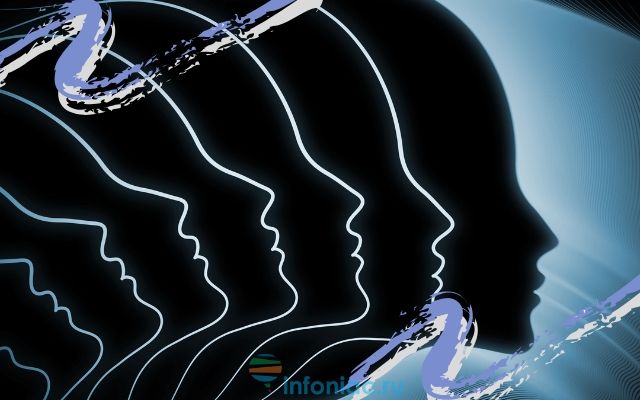Женские образы в драме жизнь есть сон

Анализ пьесы «Жизнь есть сон»
Знаменитая пьеса Педро Кальдерона де ла Барка впервые была представлена публике в 1635 году. Созданная в период расцвета испанской литературы, она стала одним из знаковых произведений своей эпохи. В ней драматург наиболее полно раскрыл истинную сущность человеческого бытия и натуры. А помог ему в этом им же разработанный жанр религиозно-философской драмы.
«Жизнь есть сон» — пьеса из трёх «хорнад» (действий). Слово «хорнада» имеет испанские корни и обозначает «жизненный путь человека, пройдённый за день». Художественное время драмы как раз и состоит из трёх дней: в первый (Сехисмундо – узник в тюрьме) – происходит расстановка героев на конфликтных позициях, во второй (Сехисмундо– принц во дворце) – напряжение достигает кульминации, в третий (Сехисмундо – заключённый и будущий король) – происходит развязка.
Три хорнады становятся в пьесе и тремя этапами взросления человеческой души. В первый день мы видим Сехисмундо – человеком, который мало чем отличается от зверя: он всю жизнь провёл среди диких скал и ему знакомо лишь это естественное существование, лишённое человеческих чувств и морали.
Вырванный из привычной ему среды, герой проявляет себя как настоящий зверь – жестокий, кровожадный, мстящий за свои былые унижения всем, в том числе, и родному отцу. Власть второго дня открывает в Сехисмундо самые худшие качества – эгоизм, несдержанность, похоть.
Проснувшись в темнице, бывший принц приходит к выводу, что «жизнь – есть сон», и не изменяет ему даже после того, как узнаёт от Росауры подробности своего вполне реального царствования. В уста Сехисмундо Кальдерон вкладывает основное христианское положение всех времён и народов: «Мы здесь до пробуждения спим». Спит царь, наслаждаясь своим правлением, спит богач, теша своё тело материальными благами, спит бедняк, горько сетующий на судьбу, но рано или поздно ко всем приходит пробуждающая от жизни смерть. Осознав это, Сехисмундо решает творить добро, как то единственное, что оставляет свой след – как во сне, так и в человеческом существовании.
Наравне с философскими вопросами о смысле бытия, в пьесе «Жизнь есть сон» поднимается проблема судьбы и её преодоления силой свободной воли. Король Басилио, испугавшийся страшных снов беременной жены и предсказаний астрологов, решает заточить своего новорождённого сына в темницу. Так обычный человеческий страх становится причиной формирования звериной жестокости в Сехисмундо. Справиться со своими животными наклонностями герою удаётся только после знакомства с жизнью – её радостями и огорчениями, её богатством и тщетой. Таким образом автор утверждает идею человечности, живущей в каждом из нас и находящейся себя вопреки всему. Главное, чтобы сам человек осознавал себя личностью, способной как на дурные, так и на добрые поступки.
В этом смысле обесчещенная герцогом Московии Росаура, при всей своей любви и благородстве, одержима стремлением отомстить за поруганную честь и либо вернуть себе любимого, либо убить его. Девушка настолько погружена в свои несчастья, что не замечает ничего вокруг. Ей безразлично, что Астольфо спас жизнь её покровителя и, как впоследствии выясняется, отца – Клотальдо. Ей нет дела то того, что другая, не менее её любящая герцога девушка, инфанта Эстрелья, будет страдать. Росаура идёт к своей цели напролом, не замечая того, что сама она с проблемой не справится. Её образ лишён развития, а жизнь её полностью подчинена круговороту сюжета, своего рода, неумолимому року. Спасти девушку от одержимости местью под силу только тому, кто не боится признавать свои ошибки, а вместе с ними исправлять и ошибки других людей. Добрым гением Росауры становится Сехисмундо, превратившийся к концу пьесы в благородного и справедливого человека и короля.
Ознакомившись с анализом пьесы «Жизнь есть сон», обратите внимание на другие сочинения:
«Жизнь есть сон», краткое содержание пьесы Кальдерона
Жизненный и творческий путь Педро Кальдерона, краткая биография
По произведению: «Жизнь есть сон»
По писателю: Кальдерон Педро
Источник
8. Драма Кальдерона «Жизнь есть сон»
Наиболее ярко драматическое барочное искусство Кальдерона, по общему
мнению, проявляется в драме «Жизнь есть сон» (1635) — «ключевой
драме не только для творчества Кальдерона, но и для всего искусства
барокко». «Жизнь есть сон» — многопроблемная драма, это необходимо иметь в виду, знакомясь с ее
истолкованиями в отечественном литературоведении. В некоторых источниках
очевидно стремление к историко-политической конкретизации фабулы произведения
(например, утверждение, что это пьеса о воспитании идеального правителя), не
адекватное, как кажется, поэтике Кальдерона-драматурга. Аллегорико-философское
звучание этой драмы возможно особенно ясно ощутить, если сопоставить ее с
«Саламейским алькальдом» — исторической пьесой Кальдерона, основанной
на переработке драмы, авторство которой часто связывают с именем Лопе де Веги.
И в этом случае Кальдерон сосредотачивается на проблеме чести, но ставит
и решает ее на более конкретном национально-историческом материале.
Анализ произведения.
Лк.
Разнообразны источники фабулы пьесы: тут и христианские легенды о
Варлааме и Иосафате, восходящие к восточным преданиям о Будде, и исторические
хроники (описаны польско-российские отношения периода Смуты). Историческая
фабула сильно трансформирована. Местом действия выбрана Польша, что легко
объяснимо: Польша, как и Испания, католическое государство. Выбранный сюжет
Кальдерон трансформирует, делает его эмблематичным. Эта пьеса – об уделе
человека на земле – в смысле и религиозном, и этическом. Центральная
проблема – проблема свободы воли, актуальная и для протестантов. У них удел
предопределен, а у католиков – нет. Эта коллизия отражена в драме (Басилио
верит предсказаниям звёзд, запирает Сехизмундо в темницу).
Философский смысл пьесы. Перед нами – история Сехизмундо, который не приходит к пониманию, где
жизнь, а где сон, как их можно разделить, итог один – сомнение (см. эп. с
Росаурой: Сех.: Я был Царем, я всем
владел, / И всем я мстил неумолимо; / Лишь женщину одну любил…/ И думаю, то
было правдой: / Вот, все прошло, я все забыл, / И только это не проходит).
Человек существует, не понимая, реальность или иллюзия вокруг. Вывод Сехизмундо
– необходимо творить добро, неважно, спим мы или бодрствуем: «Клотальдо: Что говоришь? Сехисмундо: Что
я лишь сплю, / И что творить добро хочу я, / Узнавши, что добро вовеки / Свой след незримый
оставляет, / Хоть ты его во сне свершил». Добро – этическая категория:
творить добро – быть нравственным, достойным. Речь идёт о понимании
действительности и пути человека как пути бед, требующих самоограничения и
самоотречения. Человек должен выбрать позицию ограничения своих земных
желаний добровольно: см. Сехизмундо говорит: «А с духом менее свободным / Свободы меньше нужна мне» à
получает власть à теряет à получает снова à наказывает предводителя восстания, т.к. он преступил закон
(эволюционирует от человека, желающего полной и ничем не ограниченной свободы,
к человеку, подчиняющемуся закону).
В этой пьесе не так много действующих лиц, но действие её –
двуфокусно – тут две линии интриги (соответственно, единства действия нет):
Росаура (и Астольфо) и Сехизмундо (и его жизнь-сон).
Также важно отметить следующее: Сехизмундо любит Росауру, но
отрекается от неё, так как должен восстановить её честь (пусть идёт за
Астольфо), а он, по рангу, — муж Эстрейи.
Росаура говорит об этом: «Как он
умён и осторожен!». Это тоже важно для Кальдерона: по его мысли, человек
должен понимать границы своих возможностей, не поддаваться обуздывающему
чувству.
Сем.Что
означает метафора, вынесенная в заглавие, и как она реализуется в тексте
произведения?
Начнем с того, что метафору придумал вовсе не Кальдерон, это – избитое
общее место в христианской культуре. Жизнь земная, временная, уподоблена сну –
она изменчива и преходяща, а жизнь загробная, вечная – жизни, она постоянна.
Однако в тексте пьесы это противоречие не очень выражено: здесь нет
религиозного подтекста. Оппозиция «жизнь — сон» актуальна для ГГ, Сехизмундо:
для него они не разделены, слиты, взаимопроникают. Однако тут не
христианское «вечность – временность», а скорее «сон – явь». Это и есть новый
оттенок смысла, который привносит в метафору Кальдерон.
Клотальдо говорит Сехизмундо о сне и о жизни: «Но и во сне ты должен был бы / С почтеньем отнестись ко мне:/ Тебя я
воспитал с любовью, / Учил тебя по мере сил, / И знай, добро живет вовеки,/ Хоть ты его во сне свершил». Как человек,
воспитанный в обществе, Клотальдо рассуждает о добре традиционно: абсолютное
добро существует всегда, вне зависимости от того, в каком состоянии человек
проявил к нему тягу, неважно и в каком состоянии человек его воспринимает.
В следующем монологе Сехизмундо отзвуков рассуждения об абсолютном
добре что-то не слышно. «И снится мне,
что здесь цепями / В темнице я обременен,/ Как снилось, будто в лучшем
месте / Я, вольный, видел лучший сон./ Что жизнь? Безумие, ошибка./ Что жизнь?
Обманность пелены./ И лучший миг есть
заблужденье,/ Раз жизнь есть только сновиденье,/ А сновиденья только сны».
У Сехизмундо относительные понятия о добре и зле. Для него вообще нет
ничего абсолютного – он рос вне общества.
Зададимся вопросом: случайно ли Кальдерон пишет свою пьесу в 1635 г.?
Сюжет, конечно, сказочный, да ещё и на перевранных исторических событиях
(Смутное время). Сказочных мотивов много: например, человек, воспитанный вне
общества. Сехизмундо – персонаж-изгой, выделенный всеми способами. Появление
этого типа персонажа обусловлено исторически: слишком много «Сехизмундо»
появилось в современной Кальдерону Испании. Таким людям важно решить проблему
самоопределённости.
В 1 монологе Сехизмундо рассуждает о свободе. Он мыслит, что
его внешняя свобода предопределяет его внутреннюю несвободу. Что видит
Сехизмундо в свободе?
«А с духом более обширным / Свободы меньше
нужно мне?/ Родится зверь с пятнистым мехом,/ Весь — разрисованный узор,/ Как
символ звезд, рожденный кистью / Искусно — меткой с давних пор,/ И дерзновенный
и жестокий…/ А лучшему в своих инстинктах,/ Свободы меньше нужно мне?/ А с
волей более свободной,/ Свободы меньше нужно мне?». Свобода для Сехизмундо – быть «дерзновенным
и жестоким зверем», следовать своим инстинктам, своей воле, способность не
сдерживать, властно проявлять свою природу.
Сехизмундо становится принцем и ничуть себе не изменяет. Применяет ту
самую свободу, о которой мечтал. Интересный случай: человек поставил себе целью
жить, как звери в лесу: «Хотя я зверь меж
человеков / И человек среди зверей».
А как отличить человека от зверя? Зверь ли «естественный человек»
Сехизмундо? А разве люди Астольфо и Эстрея, которые интригуют между собой? Где
пролегает эта грань?
Однако Сехизмундо на протяжении пьесы всё-таки эволюционирует.
От своевластия он приходит к настоящей внутренней свободе (он наказывает
предводителя восстания за своевольное неподчинение королю и сам подчиняется Басилио).
Меняется и концепция добра: в начале пьесы добро для Сехизмундо – не
испытывать ограждений: «То справедливо,
что я хочу». Здесь он предстаёт человеком нового типа, какого не знало
Средневековье. В Средневековье каждый человек имел своё место в иерархии бытия
и не мог хотеть большего. Для средневековой культуры норма – необходимое
смирение желаний, отрицание эгоизма (наш любимый Данте: Ад переполнен
эгоистами). Сехизмундо, собственно, в Ад лучше и пойти. Но здесь он – главный
герой. Всем своим прошлым Сехизмундо подготовлен к такому эгоистичному бытию: «я учился у
природы, эрго, чего требуют мои инстинкты, то и хорошо». Сехизмундо
воплощает новую норму существования: каждый человек – сам себе критерий
добра, а Клотальдо – старую: есть некий абсолютный (христианский)
критерий добра. Сехизмундо этой нормы не
знает: его ей не учили. Однако что-то заставляет его измениться и прийти к
старой норме на новом, индивидуальном уровне: Сехизмундо эволюционирует. В
сцене с солдатами он отказывается бунтовать вместе с народом.
С Сехизмундо происходит кардинальная перемена. Ключевой момент
её – удивление. Он удивляется метаморфозе жизни в сон, и сна – в жизнь, этим
необъяснимым переходам из состояния в состояние. Басилио подготовил всё так,
чтобы ударов не было, чтобы Сехизмундо не травмировали психологически. Однако
история со сном (когда он пробуждается в тюрьме вторично) – переломный момент.
У Сехизмундо есть теперь возможность сравнить две жизни: свободное бытие
и несвободное, хоть он и не понимает, как одно переходит в другое, не понимает,
чем они отличаются – реальность от ирреальности. Однако есть один критерий – реальность
чувства: он говорит Росауре — «Я женщину одну любил», всё прошло, но
чувство не проходит. Сон может пройти, будучи сном, однако он чувствовал
по-настоящему и по-настоящему был счастлив. Именно реальность чувства счастья
становится подлинной свободой для Сехизмундо. Состояние лишенности счастья –
состояние несвободы. Это понимание свободы сменяет старое. Свобода
инстинктов ничего не даёт – за ней идёт пробуждение и боль утраты. Всё, что он
обретёт в состоянии свободы внешней, развеется, как сон, а вот счастье нет,
счастье останется. Любое наслаждение пройдёт бесследно, а вот осознание от
сделанного добра останется.
Поэтому Сехизмундо начинает ограничивать себя в своих желаниях. Он
поступает прямо им наоборот. Ему хочется быть царем – он подчиняется Басилио.
Он хочет быть рядом с Росаурой – он выбирает себе в жены Эстрейю.
Внутренне Сехизмундо тот же, но жизнь научила его, что следовать своим
желаниям – опасно, что это приведёт к разочарованию. Вывод, как в буддизме:
чтобы не страдать, надо не желать, жизнь есть страдание, причина страдания –
желание.
Свободу человека не могут связать и звёзды: воля человека свободна,
и при помощи её он может преодолеть судьбу.
Вывод, который делает Сехизмундо из этого важного урока: свобода
должна быть ограничена ради гармонии. Все прочие персонажи этой пьесы воплощает
традиционную добродетель, Басилио — мудрость, Катальдо — верность,
Астольфо — честь, Эстрелья — скромность. Они не справляются со своими ролями,
не работают больше традиционные ценности, попытка прожить традиционную жизнь
оборачивается крахом. Так теперь устроена действительность. Гармония нарушена потаканием себе. А чтобы
была гармония, каждый должен себя ограничивать: себе следовать нельзя.
«Жизнь есть сон» посвящена проблеме формирования идеального
правителя (Плавскин). На примере Сехизмундо мы видим, как формируется и
становится человек общественный, человек среди людей. «С самого начала драма
развивает одну из фундаментальных барочных идей: человек не существует сам по
себе…у Кальдерона…общаясь с людьми, человек приобщается к человечности…Человек
становится человеком только среди людей: без них он не может человеческой
жизнью, не природа, а общество – среда его обитания. Между тем Сехисмундо столь
необходимой среды был лишен, среды, в которой он мог формироваться так, как ему
подобает» (Видас Силюнас).
«Каждому уготована своя роль. Сехисмундо уготована роль грядущего
властелина Польши. Готовили его к ней из рук вон плохо…От тебя не зависит,
какая роль тебе выпадет, зависит, как ты её сыграешь. Барокко предполагает
сознательную согласованность, сыгранность людей в обществе. Каждый актёр влияет
на смысл спектакля – творит смысл или разрушает. Так сохраняется свобода
выбора, которая, кажется, упраздняется подчинением роли..выбор решения, как
поступать с другими, — это и выбор и самого себя. Принимая решение, Сехисмундо
вольно или невольно строит себя, как строят роль…
Мы помним, что барочный человек – человек на виду, человек, явленный
людям. Но Кальдерон угадывает, что оборотная сторона прилюдного бытия «внешнего
человека» — человек наедине с самим собой, что-то существенное содержащий в
глубинах своего «я». Человеку с самим собой, а не только с другими, строит
отношения, и первое, может быть, важнее второго, — в общении с людьми человек
может дать только то, чем внутренне богат, что он сделал достоянием своей
души…работа актёра над собой – работа над своей человеческой сущностью»
(Силюнас). Рефлексия человека, его изменение своего мировоззрения ведёт
к изменению его общественного поведения и влияет на общество в целом.
«Жизнь есть сон» — история эволюции Сехизмундо, «учителем» которого был сон,
изменивший его жизнь и его восприятие мира, а значит и его характер, его
отношение к другим людям и его социальную роль.
Источник
«ЖИЗНЬ
ЕСТЬ СОН». Смысл названия драмы КальдеронаВыражение, ставшее названием пьесы, входит в ряд метафор,
характерных для литературы барокко: «мир (жизнь)
— книга, мир — театр» и т. п. В этих афоризмах заключена
сама суть барочной культуры, трактующей мир как произведение
искусства (сон также понимается как творческий процесс).
Барокко как стиль в искусстве, в частности в литературе,
ограничен временными рамками: конец XVI — начало XVIII
вв. В эти полтораста, приблизительно, лет мы наблюдаем,
как это направление «мигрировало» по Европе,
зародившись в Италии и «умерев» в России, а
именно в творчестве Симеона Полоцкого. Очевидно, что расцвет
барокко, эпоха его наивысшего влияния, приходится на XVII
век. В это столетие стиль приходит в Испанию и находит
своего ярчайшего представителя — Кальдерона де ля Барку
(1600-1681).Этимология
термина точно не установлена. Он может происходить как
от португальского выражения perola baroca (жемчуг неправильной
формы), так и от латинского слова baroco (особо сложный
вид логического умозаключения) или французского baroquer
(«размывать, смягчать контур» на художническом
арго). Трудно отдать предпочтение какой-то из версий,
ибо барокко — это и неправильность, и сложность, и пресловутая
«размытость». Все три эпитета подходят для характеристики
творчества приверженцев барокко. Оно противостоит ясной
и оптимистической картине, созданной художниками Ренессанса.Барокко
вообще есть следствие, так сказать, «вырождения Возрождения».
Мастеров ренессансной культуры отличал благожелательный,
доходящий до воспевания, интерес к Человеку. Но оказалось,
что человек (уже со строчной буквы) не способен влиять
ни на свою эпоху, ни на себе подобных и не в силах ничего
исправить. Наступило разочарование. В литературе испанской
его отражением явился, разумеется, Дон-Кихот — прекраснодушный
безумец, чьи высокие помыслы реальному миру не нужны и
даже вредны.От
позиции Сервантеса всего один шаг до философско-творческого
кредо Кальдерона. Не следует, считает он, отчаиваться
от того, что жизнь нельзя изменить, — ведь она есть всего
лишь сон, фикция. Законы жизни — это законы сна.Поэтому
не вполне верно говорить, что литература барочного направления
обращается к миру грез и сновидений: это действительность
трактуется в ней как сновидение, насыщенное символами
и аллегориями. Типичные признаки барокко: нарочито нереальные
характеры и ситуации, ветвистые метафоры, претенциозность,
тяжеловесная риторика, — все это присуще путаному сну,
а не яви. Немудрено, что писатели так называемого ренессансно-реалистического
направления, как Шарль Сорель, называли барочные «сновидческие»
произведения «галиматьей, способной загнать в тупик
самый изворотливый ум». (Так дневная логика объявляет
абсурдом сны, которые, пока мы их видим, кажутся нам полными
смысла и значительности.)Афоризм
«Жизнь есть сон», столь подходящий для определения
сущности всего барокко, кажется тождественным другим барочным
выражениям — «Жизнь есть театр», «книга»…
На самом деле между ними есть серьезная разница. Если
жизнь есть пьеса или книга, то ее персонажи всецело подчинены
Автору, или, говоря традиционней, Богу. А если жизнь есть
сон, то персонаж одновременно и является этим Автором,
коль скоро этот сон — его собственный. Здесь — симптом
той двойственности, которая отличает искусство барокко
вообще и пьесу Кальдерона в резкой частности: признание
и бесправия человека, и его силы. Как удачно сказал Тургенев,
«существо, решающееся с такой отвагой признаться
в своем ничтожестве, тем самым возвышается до того фантастического
существа, игрушкой которого оно себя считает. И это божество
есть тоже творение его руки». Барокко представляет
собой сочетание несочетаемого — Средневековья и Ренессанса,
или, по словам проф. А. А. Морозова, «готики и эллинизма».
Смешалось усвоенное Возрождением античное почтение к человеку,
«равному богаму, — и схоластическая мысль о тотальной
зависимости человека от Вседержителя.Примирить
эти две позиции оказалось элементарно, стоило только объявить
мир иллюзией. Иллюзорно величие человека, но иллюзорна
и его зависимость от божества. Разумеется, сам Кальдерон,
ревностный католик, никогда не согласился бы с тем, что
это «случилось» в лучшей его пьесе. Однако рассмотрим
ее и убедимся в этом.«Жизнь
есть сон» — мрачное философское произведение, и трудно
согласиться с его переводчиком Бальмонтом, полагавшим,
что, берясь за чтение пьесы, «мы вступаем в чарующий
мир поэтических созданий». Многие видные писатели
и литературоведы не в восторге от переводов, выполненных
этим литератором Серебряного века, всех зарубежных авторов
«рядившим в свои одежды». Но все же Бальмонт
— поэт декаданса, течения несколько схожего с барокко:
то же разочарование, та же тяга к символам… Поэтому
его перевод Кальдерона кажется удачным, ибо недостатки
получившегося текста можно отнести к изъянам, общим для
этих авторов, а точнее — этих литературных направлений.Пьеса
начинается с того, что Сехисмундо, принц, с рождения заточенный
своим отцом в специально отстроенной башне, жалуется и
негодует, обращаясь к небу. Не зная истинного своего «греха»
(зловещих знамений, предвестивших его появление на свет),
он все же признает, что наказан справедливо:Твой
гнев моим грехом оправдан.
Грех величайший — бытие.
Тягчайшее из преступлений —
Родиться в мире. Это так.Очевидно,
эти понятия внушены несчастному его учителем Клотальдо,
потчевавшим узника религиозными догматами об изначальной
греховности человека. Усвоивший католическую веру, Сехисмундо
недоволен лишь тем, что за общий «грех рождения»
расплачивается он один. Позже принц становится равнодушен
к этой «несправедливости», когда осознает, что
«жизнь есть сон».Жить
значит спать, быть в этой жизни —
Жить сновиденьем каждый час (…)
И каждый видит сон о жизни
И о своем текущем дне,
Хотя никто не понимает,
Что существует он во сне.Сон
может быть плохим, может быть хорошим, но в любом случае
он представляет собой иллюзию. Следовательно, нет никакого
смысла сетовать на свою судьбу.К
этой мысли он приходит после того, как был прощен, призван
ко двору, свершил там несколько жестоких и безнравственных
поступков и, отринутый, вернулся в первоначальное состояние
заключенного. Мы видим в этом своеобразную трактовку религиозного
постулата о бессмертии души, которая может жить-грешить
(иначе говоря, спать), но по смерти (пробуждении) ее ждет
возвращение в потусторонность. Поскольку Сехисмундо не
умер, т. е. не «проснулся» окончательно, он
понимает свою жизнь в заключении как сон, а краткое пребывание
на воле, соответственно, как сон во сне. Итак, говоря
языком священника, в сей юдоли все бренно: и преступление,
и возмездие, и печаль, и радость:И
лучший миг есть заблужденье,
Раз жизнь есть только сновиденье.Легко
заметить, что, называя свое краткое пребывание на воле
сном, Сехисмундо не только избавляется от ужаса возвращения
в темницу, но и оправдывает свое преступное поведение.…Люди
той страны, где протекает действие (Полония), не ведают,
что король Басилио заботился об их благе, когда лишал
свободы своего жестокого сына. Народ знает только, что
Сехисмундо — «царь законный», а некий Астальфо,
которому король хочет передать трон, — «чужеземец».
Поднимается мятеж, восставшие солдаты направляются к опальному
принцу, желая возвести его на престол. Узник, проникнутый
своей философской концепцией, отказывается было от такой
чести:Я
не хочу величий лживых,
Воображаемых сияний (…)
Без заблуждений существует,
Кто сознает, что жизнь есть сон.Но
один из вошедших к нему находит верные слова:Великий
государь,
Всегда случалось, что в событьях
Многозначительных бывало
Предвозвещенье, — этой вестью
И был твой предыдущий сон.Сехисмундо
легко с ним соглашается (вещие сны вполне укладываются
в его концепцию) и решает «уснуть» еще раз:Ты
хорошо сказал. Да будет.
Пусть это было предвещенье.
И если жизнь так быстротечна,
Уснем, душа, уснем еще.Эта
реплика очень важна. Не «предвозвещенье» повлияло
на решение принца. Он сам решает, считать ли ему свой
мнимый сон «вестью» о «событьях многозначительных».
Итак, само по себе «предвещенье» ничего не значит.
Это человеку решать, что считать таковым, а что нет. Позднее
Сехисмундо, захватив королевский дворец, обвинит своего
отца именно в том, что тот доверился знамениям и заточил
сына; не знамения виновны, а человек:То,
что назначено от неба (…),
То высшее нас не обманет
И никогда нам не солжет.
Но тот солжет, но тот обманет,
Кто, чтоб воспользоваться ими
Во зло, захочет в них проникнуть
И сокровенность их понять.Так,
прикрываясь вполне христианским постулатом о непознаваемости
божьей воли, в пьесу проникает мысль о самостоятельности
человека, о его праве на выбор и об ответственности такого
выбора.Даже
апокалиптические ужасы, сопровождавшие рождение Сехисмундо,
— камни с небес, реки крови, «безумство, или бред,
солнца», видения и смерть его матери — не повод принимать
какие-то меры, ограничивать человеческую свободу. Пытаясь
избежать ужасных последствий, король Басилио их только
приближает. Об этом и говорит ему принц:Один
лишь этот образ жизни,
Одно лишь это воспитанье
Способны были бы в мой нрав
Жестокие внедрить привычки:
Хороший способ устранить их!В
конце своего длинного монолога он заявляет о «приговоре
неба», который невозможно предотвратить, — и тут
же делает нелогичный ход, отменяющий все «приговоры»,
земные и небесные: прощает отца:Встань,
государь, и дай мне руку:
Ты видишь: небо показало,
Что ты ошибся, захотев
Так победить его решенье;
И вот с повинной головою
Жду твоего я приговора
И падаю к твоим ногам.Следует
проникновенная реплика короля, признающего Сехисмундо
своим наследником, к вящей радости окружающих. Принц произносит
«ударную» заключительную фразу:Сегодня,
так как ожидают
Меня великие победы,
Да будет высшею из них
Победа над самим собою.«Победа
над самим собою» — победа над предопределенной судьбой.…На
первый взгляд, финал пьесы гласит о том, как посрамлен
дерзновенный человек (Басилио), решивший избежать предсказанного
небесами события вместо того, чтобы смиренно ждать его.
Но с тем же успехом можно сказать, что Кальдерон живописует
фиаско суеверной личности, едва не сгубившей родного сына
из-за веры в знамения. Это двойное толкование, как и сам
стиль барокко, выходит за пределы католических догм, приверженцем
которых являлся автор.Следующий
пример барочного «дуализма» еще наглядней.Самым
важным для Кальдерона было, разумеется, показать, что
великолепная концепция «жизни как сна» помогла
главному герою нравственно преобразиться. Уяснив, что
все цели, которых можно добиться насилием, иллюзорны,
Сехисмундо понимает и ненужность насилия. Это позволило
ему простить отца. Сделав это, принц парадоксальным образом
добился тех самых целей — власти, славы, перспективы неких
«великих побед», — ничтожность которых сам недавно
обосновал. Так Бог награждает праведников — именно потому,
что они награды не требуют…В
общем, автор считает: восприятие личного бытия как сновидения
способствует христианской добродетели. (Но его пьесу,
строго говоря, нельзя считать убедительным тому доказательством.)
На самом деле эта концепция глубоко антирелигиозна, ибо
предполагает единственного Творца — человека, видящего
сон. Само божество таким образом сводится до уровня одного
из фантомов сновидения. Понятие греха и посмертной метафизической
кары обессмысливается: как можно наказывать за проступок
и даже преступление, сколь угодно тяжкое, если оно лишь
приснилось?Так
становится «размытой» сама личность Сехисмундо:
то ли он вправду постиг высшую истину, то ли он пройдоха,
придумывающий вздорные оправдания своим злодействам…С
точки зрения законодателей барокко, одним из главных достоинств
произведения является неоднозначность, возможность различных
толкований. «Чем труднее познается истина, — изрек
испанский философ того времени, — тем приятнее ее достичь».
Но двуликость стиля, обращенного и к чувственной античности,
и к чопорному средневековью, автоматически приводит к
тому, что в барочных произведениях достигать приходится
не одну, а две истины, и притом равноправные. Зритель
не знает, какой отдать предпочтение, даже если ему известно
(как в случае с Кальдероном) мнение автора на сей счет.Понятно,
почему уже в XVIII веке термин «барокко» стал
употребляться для отрицательной характеристики «чрезмерно
сложных для восприятия» литературных трудов. Несмотря
на это, очень многое из «арсенала» этого стиля
вошло в культурный обиход, в том числе, бесспорно, и замечательный
афоризм, ставший заглавием пьесы.
Источник